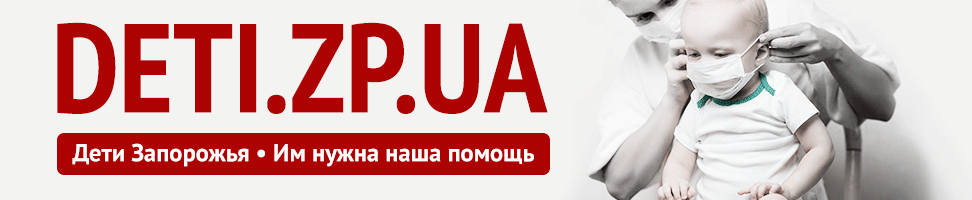В то памятное зимнее утро в нашем чуме все встали рано. Мама сказала, что сегодня папа отвезёт меня в школу. После утреннего чая я надела свою новую малицу, новые серые широкие «антошки», в меховой мешочек аккуратно сложила своих ненецких кукол, сделанных из клювов птиц, одетых в маленькие малицы и ягушечки.
Мама приготовила в дорогу вареное мясо, хлеб и кусочек сахару. Маленькие сёстры и братья крутились рядом. Папа приготовил упряжку из пяти пестрых быков, сложил в нарту необходимые вещи.
Перед дальней дорогой мы снова попили чаю, потом папа переоделся в хорошую малицу, новые черные кисы и вышел на улицу. Мама завязала мне покрепче пояс, поправила кисы, надела на меня гуся, взяла мой мешочек, и мы вышли из чума. Когда я села на нарту, мама обняла меня и нежно сказала: «Веди себя хорошо, ничего не выдумывай и слушай старших!»
Из соседнего чума вывели мою подружку Маню и усадили на нарту ее отца. Наша бабушка плакала и все повторяла: «Как они там будут без нас? Они ведь такие маленькие, их увозят раньше времени, им еще рано в школу, им бы еще год побыть дома...» Две наши упряжки двинулись в путь... Не помню, плакала я или нет, но тревога вселилась в мою маленькую душу... Сильные олени неслись быстро.
Был морозный день, но мы не чувствовали холода, потому что наши мысли были заняты неизвестным будущим. Вероятно, наши отцы тоже были расстроены, но скрывали свои чувства...
Когда папа остановился в пути, а вслед за ним и вторая упряжка, то на горизонте я увидела какие-то нагромождения.
Мы с Маней, соскочив с нарт, стали гадать, что же это такое. Подружка приняла это за кладбище, а я сказала ей: «Это, наверно, горы!» Наши отцы тихо беседовали.
Когда подъехали ближе, папа сообщил, что мы приехали в поселок Антипаюта, где будем учиться в школе. Впервые в жизни мы увидели поселок, дома, которые показались нам такими большими.
У меня на шее был фурункул, и папа сначала повёл меня в больницу. Я сильно плакала от страха, когда с меня сняли малицу, и белый старик с седой бородой стал осматривать меня. Меня раздражали неизвестные запахи и люди в белых халатах. Русская тётенька в белом прижала мои руки к моему худенькому телу, а белобородый старик, тоже в белом, что-то резал на моей шее.
Я плакала, пыталась вырваться. Наконец забинтовали меня, отпустили. Всхлипывая, я надела свою малицу и вышла к папе. Он с жалостью смотрел на меня, завязал мой пояс, и мы пошли к другому дому. Это была школа-интернат поселка Антипаюта, где мне предстояло учиться пять лет.
Мы с папой вошли в этот большой дом, в длинном коридоре к нам подошла какая-то русская женщина, взяла меня за руку и повела в другой небольшой дом, который назывался баней.
В бане я сопротивлялась изо всех сил, когда толстая русская тетя стала стаскивать с меня одежду. Я обеими руками схватилась за малицу и ни за что не давала снимать.
Мне было страшно оставаться голой при людях. Женщине все же удалось справиться, видимо, у нее был богатый опыт в этом деле. Я заплакала и задрожала, когда она стала стричь меня наголо. Потом горячей водой стала мыть голову и тело, но процедура пришлась мне по душе, и я стала успокаиваться.
После бани меня одели в интернатскую одежду: цветастое тонкое платье, черные тонкие штаны, валенки, серый платок и фуфайку. Когда вышла на улицу, то ветер пронизывал меня со всех сторон, голова и шея сразу же замерзли, заледенели и колени, потому что верхняя одежда была короткой. Я чувствовала себя почти голой после своей теплой длинной малицы и хороших кисов.
В узком и длинном коридоре нас ждали наши отцы. Папе вручили мою малицу и кисы. Машин отец тоже держал мешок с вещами дочери. Родители вручили нам мешочки с едой и куклами.
Настало самое тяжёлое – минуты прощания. Папа погладил меня по стриженой голове и, отвернувшись, быстро пошел к выходу. Мы с Машей заревели во весь голос и побежали за своими родителями на улицу, но за порогом нас догнала русская женщина. Никогда не забыть мне того страха, отчаяния и душевной боли, когда меня отняли от папы и поместили в незнакомую, чужую, холодную школу-интернат поселка Антипаюта!
Я помню почти все, что происходило со мной в этом казенном заведении, где мне так не хватало моих дорогих родителей, их ласки, тепла, моих любимых оленей, дедушки и бабушки, сестёр и братьев, родных, друзей, своих любимых собак, тундры...
В интернате было очень много детей. Кушали мы за длинными столами, сидели на длинных деревянных скамейках. Часто давали кашу, какие-то гороховые супы, которые не нравились нам. Чай в кружках всегда был холодным. А когда давали рыбный суп из щуки, то все дружно отодвигали от себя тарелки с содержимым и ели только второе и компот.
Дело в том, что мы, ненцы, никогда не ели щуку, которая рыбой у нас не считалась и не считается до сих пор. В тундре мы привыкли кушать только осетра, муксуна, щёкура, пыжьяна, в худшем случае – сырка и ряпушку. Здесь, в интернате, больше всего хотелось мороженого или вареного оленьего мяса и горячего душистого чая. Рыбы мы, оленные ненцы, ели меньше – только тогда, когда доставали или обменивали на мясо оленя.
Вечером меня подвели к железной кровати, к какой-то незнакомой, худой, с большим носом, маленькими глазами и в веснушках, девочке и велели спать на одной кровати с ней.
А я в душе надеялась на то, что меня положат спать вместе с Машей Салиндер, ведь мы были не только подружками, но и родственницами. Мама в чуме всегда беспокоилась, что я плохо сплю, и часто она засыпала после всех, потому что я, боясь темноты, время от времени негромко говорила маме:
«Ама, мань тамнадм! (Мама, я еще не уснула...)» Мама вяло откликалась до тех пор, пока я не засыпала. И тут, в первую ночь, на высокой и узкой железной кровати, я, естественно, не могла уснуть долго: сначала тихо плакала под одеялом, тосковала по родителям и теплой постели из шкур в чуме, еще надеясь, что родители приедут и заберут назад в чум, боялась лишний раз шевельнуться, чтобы не разбудить девочку, которая лежала головой в другую сторону, а её ноги задевали мою голову, было очень тесно, и я боялась перевернуться на другой бок, но самое главное – во сне боялась упасть на пол...
Проснувшись утром, увидела кровь на лице соседки по кровати. Оказывается, ночью я все же пинала девочку, и сейчас из её носа текла кровь. Тут подошла толстая русская женщина, что-то пробурчала, нехорошо посмотрела на меня и увела девочку с собой. Девочка была с рыбоугодья Ямбург. Звали её Пана Вэнго.
Вскоре мы с ней подружились, и дружба наша длилась всю жизнь, до самой ее смерти. Спустя много времени она, закончив после семи классов курсы бухгалтеров, стала работать в колхозе, а позже ее перевели на комсомольскую и партийную работу в поселок Тазовский.
Последние годы Прасковья Ачинамовна Чижова была начальником поселкового отделения Госстраха. Умерла молодой женщиной, похоронена в посёлке Тазовский на кладбище, которое находится между посёлком и аэропортом. Ее дочь Вера и сын Николай живут в Тазовском.
Первые дни и недели мы с Машей абсолютно не понимали, что говорят нам русские женщины – учителя и воспитатели. Но мне было легче оттого, что в старших классах училась моя старшая сестра Акае, которая, как могла, завязывала нам платки, заправляла штанины в валенки, сушила валенки и объясняла нам, что такое хорошо, а что такое плохо.
Позднее мы с Машей узнали о том, что мы самые младшие в интернате. И часто вечерами старшие девочки заворачивали нас в одеяла и играли нами, как куклами. Баюкали нас, ругали, пеленали. Иногда мы становились учениками, а они – учителями.
Моя сестра тайком от старших девочек приносила и складывала в карманы наших фуфаек печенье, калачи, конфеты и говорила: «Папа с мамой отправили тебе из чума». Я верила, и всё спрашивала её: «А когда папа заберет меня? Я хочу к маме, в свой чум! Не хочу здесь мерзнуть. Может быть, мы с тобой отправимся пешком по дороге, где ездят все оленеводы, кто-нибудь подберет нас и увезет к родителям? Давай наберем в дорогу хлеба и завтра же пойдем. Я хочу в свой чум, к маме и папе, в тундру! Хочу видеть своих оленей!»
Потом я начинала плакать, а сестра старалась успокоить меня, сама тайком вытирала слезы. Не передать словами страшную тоску ребенка по своим родителям, которых отныне он будет видеть только десять дней в зимние каникулы и три месяца летом в течение десяти или одиннадцати долгих лет учебы в школе-интернате.
Мне кажется, что и сейчас каждый ненецкий ребенок в школе-интернате мечтает только об одном: любым путем попасть к родителям в тундру. И никакие красивые одежды, телевизоры, магнитофоны, ковры на стенах и на полу, компьютеры и светлые комнаты не заменят родного чума, ласки родителей, быстрой езды на оленьей упряжке, свежего оленьего мяса, охоты или рыбалки на просторах бескрайней тундры, где вольно пасутся многочисленные стада оленей. Ведь олени дают любому ненцу жилище, одежду, пищу, транспорт, чувство гордости, любви и свободы...
Так как мы с Машей в интернате оказались самыми маленьки¬ми, то нас почти никто не обижал. Только изредка какая-нибудь девочка старалась отобрать сладости, которые изредка привозили родители. Дело в том, что многие дети были из бедных семей, и им никто ничего не привозил. Наши родители приезжали, покупали нам компоты, печенье, сушки, сгущёнку и обязательно оставляли варёное, мёрзлое мясо, приготовленное мамой. Правда, то, что давали наши родители, сразу же отбирали старшеклассники, особен¬но жестокими были девочки из колхоза имени Кирова.
В те годы жители тундры, рыбоугодий делились на колхозы. Мы, оленные люди, назывались колхозом имени Ленина, ямбургские ненцы-рыбаки – колхозом имени Кирова, остальные – колхозом имени Ворошилова. Такое же деление было и в интернате. Сначала мы, нулевики (ученики нулевого класса), не понимали этого, так как не знали русского языка.
Но позже, как и другие ребятишки, мы четко усвоили, кто «ленинец», а кто «кировец» и «ворошиловец». «Кировцы», рыбаки, были очень бедными, а их дети – жестокими, к тому же почти все были переростками. Они издевались над «ленинцами», которые считались богатыми. «Ворошиловцы» были разными, как всякие дети.
Продолжение см. http://www.proza.ru/2010/11/13/383