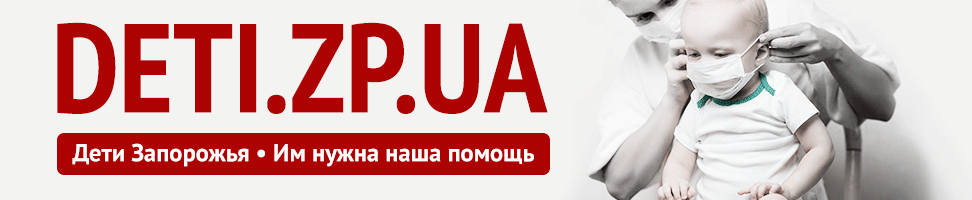Тамара Михайловна – одна из первых сестер, которые испытали все «прелести» самого трудного начального периода. "Когда мне было плохо, совсем еще плохо, я шла в больницу, и бывали такие минуты, когда каждое судно было для меня - как ваза с цветами. Я ощущала, что это меня спасает"
«Мы уходили в одиннадцать часов ночи и, уходя, слышали из палат крики о помощи. То есть, получалось, что ты весь день работала, уходишь, еле волочишь ноги и при этом ощущаешь себя дезертиром, словно оставляешь поле боя», - вспоминают то, как все начиналось, сестры Православной службы "Милосердие". 5 ноября празднуется 20 лет возобновления сестринского служения в Первой градской больнице Москвы. Мы подготовили фоторепортаж о том, из чего складывается служение сестры милоселия сегодня, и записали воспоминнаия одной из старейших сестер.
Памперс -- это революция!
«…Был болен, и вы посетили Меня…» (Матф.25:36). Сколько людей за последние 20 лет приходили в неврологические отделения 1 ГКБ, следуя евангельскому призыву? Наверное, трудно сосчитать и вспомнить всех этих людей поименно: молодых и пожилых, с медицинским образованием и без оного; приходивших на два часа и на сутки, один раз в неделю и почти каждый день. Кто-то был на этом «пире милосердия» распорядителем, вдохновителем, организатором, учителем, а кто-то помощником, добровольцем. Кто-то приходил навести чистоту в отделении: мыл полы, протирал тумбочки, а кто-то мыл больных, и все вместе они показывали путь к очищению души через делание добрых дел и покаяние. Где теперь все эти сестры? Кто-то замужем, кто-то ушел в монастырь, кто-то перешел в мир иной, а кто-то еще трудится до сих пор.
А кто-то приходил в это одно из самых тяжелых отделений больницы для того, чтобы проверить себя: имеет ли смысл поступать в медучилище, где наряду со стандартными медицинскими знаниями учащиеся получают духовную подготовку и необходимые навыки ухода за тяжелыми больными. Надо сказать, что уход – это целая система знаний и умений, направленная на облегчение страданий беспомощных больных. На момент появления Свято-Дмитриевского училища, нигде в наших больницах не уделялось должного внимания проблемам ухода. Хотя, например, в Европе уже давно уходом занимались специально обученные сестры. Опыт зарубежных коллег наши сестры стали активно применять на практике как раз в неврологическом отделении, как самом тяжелом в больнице, где была высокая смертность. Раз не было профессионального подхода к вопросам выхаживания больных на государственном уровне, то и больница не имела необходимых средств по уходу. Поэтому наши первые сестры, санитарки и добровольцы, которые пришли в неврологию, столкнулись с такими трудностями, которые нам и не снились.

Если что-то очень не хочется делать, но преодолеваешь себя, радость появляется от того, что ты это сделал. Бывает работа тяжелая и грязная. Бывает морально тяжелая, когда нужно слушать кого-то, общаться с тяжелым больным. Я думаю, это благодатное чувство. На душе становится хорошо, тихо, мирно
Представьте себе, что вы находитесь в отделении, где 70 больных и примерно 15 из них обездвиженные лежат на мокрых кроватях и ждут вашей помощи, а белья в отделении очень мало и до конца вашей смены уж точно не хватит. Какая тут профилактика пролежней, гипостатических пневмоний и контрактур, когда невозможно обеспечить сухую кровать хоть на несколько часов!
Вспоминает Тамара Михайловна – одна из первых сестер, которые испытали все «прелести» самого трудного начального периода: «Тогда все было очень тяжело. В обязанности сестер входило то, что входит в обязанности сестер по уходу, плюс санитарская работа. Не было памперсов. Сестер на отделение, на семьдесят больных, было всего две-три.
Больные плыли. В летнее время, если больной полный, санитарка шла по кругу и вероятность того, что она вернется, а у первого уже образуются пролежни, была почти сто процентов. Это могло произойти за два-три часа. Потому, что полный человек лежит в моче, а моча – агрессивная среда. Ты лежишь и под тобой пеленочка, все это намокло и плывет. Памперс – это революция! И, конечно, обработка пролежней была совершенно не на том уровне, на котором она существует сейчас, обрабатывали марганцовкой. То что это недопустимо, к сожалению, даже многим врачам во многих больницах до сих пор неизвестно, но в 1-й Градской это уже пройденный этап. Дело в том, что природа пролежня хирургу очень часто непонятна и неизвестна. Хирург смотрит на пролежень преимущественно как на рану. И отношение у него соответственное: если корка образовалась - это хорошо. Это я слышала неоднократно своими ушами. Но то, что под этой коркой все сгнило, и начинает оттуда все сочится…
Беда была страшная. Пролежни были просто до костей. И думаю, они могли способствовать гибели. Были случаи: больные выписывались и погибали дома, бывало, погибали здесь. Смертность была очень высокая.
Сейчас мы сидим, беседуем с вами, а тогда мы очень часто не имели возможности даже пообедать. Уходили отсюда в одиннадцать часов ночи и, уходя, слышали из палат крики о помощи. То есть, получалось, что ты весь день работал, уходишь, еле волочишь ноги и при этом ощущаешь себя дезертиром, как будто оставляешь поле боя.
Особенно были страшными ночи. Если за два часа - такая катастрофа, то что же - за ночь?
Поначалу мы работали до ночи. Тяжелая физическая работа. Идешь к метро. Ноги подкашиваются. А сердце… поет.

Евгения Пантюхина учится в Свято-Димитриевском училище сестер милосердия на предпоследнем курсе вечернего отделения. По окончанию хотела бы продолжать трудиться сестрой по уходу
Полностью прочесть статью и увидеть фоторепортаж Вы сможете здесь